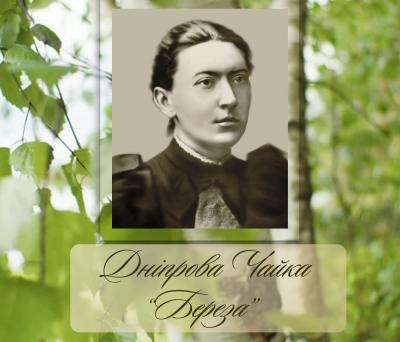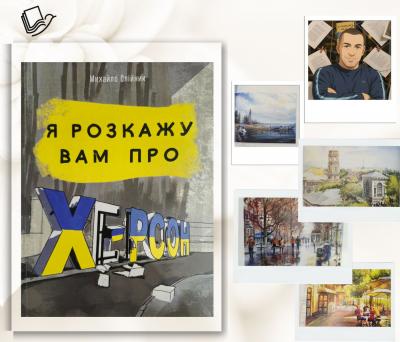Человек в степи
О. Гончар. Человек в степи
(рассказ, 1959)
Морозом сковало степь, но вдруг все развезло - ни проехать, ни пройти. Грейдеры лежат с глубоко развороченными колеями. Тут чернозем. Тяжелый чернозем.
Середина зимы, а вокруг будто осень: снега нигде нет; земля в полинявших красках; небо в холодной растревоженности туч; в голых деревьях посадок буйствует тугой степной ветер.
Безлюдьем своим и злыми порывами ветра эта мокрая, набрякшая предвечерняя степь напоминает море в штормовую погоду. И кажется, тут вовсе нет жизни. Однако степь живет. И не та ли крохотная далекая точечка дает ей жизнь?
По разбитому грузовиками грейдеру, ныряя в глубоких маслянисто-черных колеях, упрямо пробивается куда-то маленький «газик», до самого брезента забрызганный грязью. Говорят, что даже там, где ничто не пройдет, он проходит, этот неказистый степной труженик.
В «газике» за рулем - водитель Кожущенко. Это пожилой уже человек, но в нем еще чувствуется сила. Упругая, в вечных трудах каленная сила. Этой силой налиты его руки, прикипевшие к баранке, налиты ею и плечи под фуфайкой, и шея. Руки водителя и весь он в напряжении: машина идет неровно, норовисто, скользит, приплясывает в яминах. Взгляд Кожущенко устремлен все время вперед - сквозь стекло, густо обляпанное грязью, - на разбитую дорогу.
- Доедем ли? Успеем ли? Спасем ли? - время от времени нервно обращается к водителю его сосед.
Кожущенко, не отрывая глаз от стекла, глухо бросает в ответ:
- На локтях доползем.
Подоспели сумерки, но они почти незаметны. Степь светла: откуда-то из-за спины, блуждая в тучах, светит полная луна. Крохотные льдинки поблескивают в колеях. Колеи - бесконечные, причудливо извивающиеся траншеи; голые, словно бы из проволоки, посадки да мачты высоковольтных линий до самых туч... Вот тот мир, где они вдвоем пробиваются.
Сосед Кожущенко - юноша с худощавым лицом и острым продолговатым подбородком. Его буйная шевелюра не помещается под маленькой кепчонкой, ниже ушей кинжальчиками торчат темные бакенбарды. На нем новый, из добротного сукна пиджак с серым каракулевым воротником. Ему должно было быть тепло, а он все время ежится, втягивает голову в воротник, будто его продувает. Это Серега, сын председателя колхоза. В прошлом году он закончил десятилетку, поступал в институт, но не поступил и теперь временно заведует колхозным клубом.
Не жалеет ли он, что поехал с Кожущенко? Ведь он по собственному желанию вызвался!
Еще несколько часов назад в селе и не предполагали, что может случиться такая беда. Был воскресный день. Люди свободны от работ. Детвора носилась на коньках по льду залива, вылетая иногда и дальше, на простор замерзшего Каховского моря. Там, на седых просторах моря, сколько обнимал глаз, тоже маячили фигуры людей: где поодиночке, а где неподвижными темными группами. Все это были рыбаки, неутомимые щукари, энтузиасты подледного лова. Ссутулившись над своими лунками, они с самого утра высиживали там, не замечая стужи. А под вечер случилось...
Шквалом оторвало огромную льдину и погнало вместе с рыбаками в море. Было их там, на ледяной площадке, полсотни человек. Горе коснулось почти каждого дома, ворвалось чуть ли не в каждую семью. На буграх, у села, голосили женщины, в конторе суматошно звонили в район, но не могли дозвониться: видно, ветер оборвал где-то в степи телефонные провода. Оставалось одно - послать «газик» Кожущенко.
Когда этот «газик», вылетев на пригорок, на мгновение остановился в толпе, где был председатель колхоза, женщины, все еще вопившие в сторону моря, одновременно обернулись к этой брезентовой палатке, глядя на нее как на последнюю свою надежду и спасение. В этот миг председателев Серега вдруг крикнул отцу, что он тоже поедет.
- Пробьемся, всех там на ноги подымем!
Это было сказано в искреннем порыве, сказано, может, потому, что в эту минуту Серега видел перед собой наполненные слезами глаза любимой - ее отец также находился среди тех, кого на льдине уносило в море.
И вот они едут час, второй, третий... Буксуют, застревают, выбираются на колею и снова едут. Мысли их все время о тех, что на льдине. Живы ли они еще? Выдержит ли их льдина до того, пока об этой беде узнают в районе?
- А может, наши все-таки догнали их на баркасах? - высказывает предположение Серега. - Ты слыхал, отец распорядился баркасы послать вдогонку.
- Пока те баркасы стянут с берега, знаешь, куда их отнесет? Это ж море!
- И сколько раз их предупреждали... Ну и народ!
- К чему людей обвинять, ежели они в беде! Не о том теперь думай.
- Ветер, кажется, крепчает.
- Может, подморозит.
- Ну и разрыли же здесь... Когда уж нам дороги такие, как следует, построят?
- А кто их построит, если сами не возьмемся?
- Да вот хотел же я поступить в автодорожный, так им производственный стаж подавай. А я бы тут таких дорог понастроил!
- Ну, твоя дорога только начинается.
- Это еще как придется... Знаешь ведь, как бывает: комсомолом начинаем, собесом кончаем...
- Рано тебе о собесе думать.
Машина спускалась в буерак. Степь да буераки - такой здесь ландшафт. На дне буерака - прихваченное льдом озерцо; «газик» с разгона прошуршал по нему, пошел на подъем. Мотор завыл. Это был один из тех подъемов, когда, кажется, мотору не хватает какой-то капельки силы, чтобы взять его, и люди в машине невольно напрягаются всем телом, словно бы стараясь подтолкнуть самих себя, передать мотору силу своих мышц, помочь ему вытащить их. Однако сил не хватало, и где-то с половины подъема водитель вынужден был дать задний ход, спуститься назад в балку и снова с разгона бросить машину вперед, как на таран. Опять мотор задохнулся на том самом месте, и машина пошла назад, чтобы снова взять разгон.
Так повторялось несколько раз. Водителю уже ничего не было видно: ни подъема, ни месива дороги - стекло перед ним сплошь было залеплено грязью.
Остановив машину, Кожущенко вышел из кабины, протер стекло, стал осматривать дорогу. Для него она была не в диковинку, эта бездорожная дорога. На них прошла его добрая половина жизни, много он их повидал. Видел фронтовые, когда водил свой грузовик со снарядами по хворостяным настилам у Днепра, по тяжелым, вязким пескам, а позже в горах, когда пробивался зимой по руслам горных речек все выше и выше. Шофер считал это обычным и был удивлен, когда в Карпатах вручили ему медаль «За отвагу». Не ждал он легкой доли и на колхозных дорогах. Лето за летом проходило в пылище, в ветрах. Тучи пыли вставали над степью, когда возил хлеб на элеваторы. А осень... Осенние дороги всегда с боем берутся степным шофером. Не привыкать ему ночевать в степи, не привыкать возвращаться домой забрызганным по пояс, но сейчас он не может ни возвратиться, ни заночевать здесь. Он должен торопиться, во что бы то ни стало пробиваться вперед. Каждая потерянная минута мучит его, как преступление, ибо этот злой ветер, что бьется сейчас о машину, обжигает и тех, потерпевших, гонит их куда-то в ночной простор, навстречу гибели. Он знает, почему «газик» не в силах преодолеть подъем, - лысые скаты. И разве не глупо, что из-за этих его лысых, изношенных скатов (никак не может добиться новых) где-то там должны погибнуть люди! Из-за такой мелочи! Нужно бы хворосту какого-нибудь, палок, веток набросать под колеса, но кругом ни кустика. Перед войной в этой балке рос терн, а теперь и его нет.
Кожущенко снял с себя фуфайку, со злостью бросил ее под переднее колесо «газика».
Сереги рядом не было, он в это время стоял сзади, готовясь подталкивать машину. «Газик» рванулся вперед, замолол колесами, пошел, пошел и наконец выбрался на ровное место.
Они постояли возле машины, еще не веря в свою победу, Серега по самый воротник был в грязи, которая била в него из-под колес, как из брандспойта, когда он подталкивал машину, но, несмотря на это, лицо его сейчас светилось радостью: выкарабкались!
Тут, на пригорке, они еле держались на ногах - такой ветер налетал на них из степи. Резкий, порывистый, он пронизывал насквозь, и Кожущенко, сутуливший могучие плечи, без фуфайки, в одной вельветовой куртке, казался беззащитным.
Перед тем как тронуться дальше, он сбегал за фуфайкой к тому месту, где бросил ее под колеса, и, возвратившись, сунул под сиденье уже не сухую одежину, а нечто вовсе на нее непохожее - пуд круто замешенной колесами грязи.
Поехали дальше. Луну задернуло тучами, в лучах фар стали пролетать снежинки - косые, быстрые, как градины.
Выбравшись из глубоких колей на обочину, они помчались по озими, где до них, видать, проезжали уже не раз.
С каждым километром все больше подмерзало - это чувствовалось по тому, как машину все чаще и чаще заносило, бросало из стороны в сторону. В одном месте их вдруг так повезло, что «газик», крутнувшись на месте, стал задом наперед.
- Плохи дела, - сказал Кожущенко, - не слушается.
И, выровняв машину, он снова пустил ее вперед с нарастающей скоростью. Ехать им еще было далеко. Десятками километров измеряются степные перегоны. А снег густел, ветер задувал его в кабину сквозь щели в брезенте.
Перед ними опять возник буерак. Хотелось перескочить его одним духом. Машина, пущенная на полную скорость, казалось, выскочит на противоположную сторону. Но вдруг ее понесло на обочину грейдера, и они почувствовали, что уже летят кубарем куда-то вниз. Когда опомнились, в первое мгновение не могли сообразить, что с ними произошло и не искалечены ли они. Однако оба были целы и невредимы. И машина стояла на колесах. Выбравшись из нее, они увидели, что оказались на самом дне буерака. Глубокий - без помощи им отсюда не выбраться. Крутые косогоры, скользкие, как стекло, - их прихватила гололедица.
Снежные вихри носились в буераке, заволакивали небо и степь.
- Что же делать? - Серега сквозь снег пытался разглядеть Кожущенко.
- Пойдешь пешком, Серега.
- А ты?
- Я останусь возле машины. Может, кто вытащит, - догоню...
- До утра я не дойду. Ночь, метель...
- Придерживайся дороги. Высоковольтных...
- Я не могу. Я не пойду. Меня заметет! - Он почти выкрикнул последние слова испуганно, по-детски.
Кожущенко приблизился к нему вплотную - лицом к лицу.
- А тех - не заметет?
- Как хочешь, но я не могу. У меня повреждена нога, сначала не чувствовал, а сейчас вот чувствую - болит!
Кожущенко, насупившись, помолчал.
- Тогда я пойду. Оставайся.
И не успел Серега сказать что-либо, как Кожущенко в легкой, не по сезону вельветовой куртке уже скрылся в волнах метели.
Мотор работал на малых оборотах. Постояв некоторое время возле машины, Серега залез на сиденье, плотно прикрыв за собой дверцу, словно бы заслоняясь этим стеклом и брезентом от ночи, метели, от бушующей непогодью степи. Не раз слышал он, как гибнут люди в степи, как после буранов находят, выкапывают из-под снега окоченевшие тела, бездыханные останки тех, что раньше жили, дышали, смеялись... Нет, он не хочет быть таким. Ведь он только начинает жить, его любят девушки, а та, ради которой он отправился в этот путь, еще вчера вечером целовала его - он и сейчас, казалось, чувствует, как ее руки нежно, ласково плывут по его юношеской густой шевелюре... Он не погибнет! Как бы там ни бесновалась непогода, у него есть убежище - ему дает надежное затишье этот теплый отцовский «газик», согревающий его своим мотором. Но долго ли будет греть? Он глянул на шкалу - бензина было еще полбака. А когда выгорит? Есть ли запас? Стал искать канистру и вдруг наткнулся на что-то мокрое, липкое, холодное. Кожущенкова фуфайка! Забитая грязью, тяжелая, и, хотя на дороге из нее было выдавлено все тепло человеческого тела, она, однако, сохранила в себе что-то от Кожущенко, и от нее дохнуло на Серегу таким укором, что он даже отпрянул. Все как-то сразу встало перед ним в подлинном свете. Почему он отказался идти? Зачем соврал, что у него повреждена нога? Неужели он трус? Неужели это были только слова, когда хвалился девушке, что пойдет в Антарктику, что ему не страшны ни самые низкие в мире температуры, ни вековые льды?
Первым желанием его было догнать Кожущенко, вернуть, пойти вместо него. Он выскочил из машины и сразу же провалился в снег - возле «газика» уже вырос сугроб. Небо пропало. Ни неба, ни дороги, ни высоковольтных - был только океан снежной сумятицы, удары ветра, завывание метельной степной ночи. Через минуту он снова сидел в машине, и снег таял на нем, одежда увлажнялась, становилась мокрой.
Мотор работал. Шкала светилась, и от ее скупого света становилось как-то уютнее. Серега представил Кожущенко, как он идет по степи без фуфайки, пробиваясь сквозь ветер, как в конце концов, обессиленный, падает он в глубокую колею, похожую на солдатский окоп, и там его постепенно заносит снегом, и уже дух Кожущенко, его тепло бесследно разносит ветер по степи. Еще почему-то вспомнился из недавней кинохроники об Антарктиде тот последний кадр, когда тракториста Ивана Хмару вместе с его трактором поглощает на глазах у всех ледяная бездна океана...
А те, потерпевшие? Где сейчас их льдина? Куда гонит ее ветром среди открытого степного моря? Может, давно разломало, раскромсало? Может, их уже поглотила пучина, и некого больше спасать, и Кожущенко напрасно рискует? Но ведь если не дойдет, не пробьется Кожущенко, то погибнет здесь и он, Серега, ибо, по всему видать, метель разгулялась надолго. Покамест ему тепло, его одолевает дремота. Поднял воротник, чтобы меньше слышать завывание ветра, чтобы еще больше отгородиться от непогоды, - он как бы погружался во что-то теплое, беспечное, домашнее. Другая степь поплыла перед ним - летняя, солнечная. Пшеница и пшеница, комбайн плывет в хлебах. Плывет километр, другой, а хлебам не видать конца, и комбайнер, остановившись, удивленно спрашивает: «Не заблудился ли я?»
Когда проснулся, мотор уже не работал. Нажал на стартер - напрасно. В конце концов этого следовало ожидать. Без тепла, без мотора, один...
В машине становилось как-то светлее; видать, уже приближалось утро. Попробовал открыть дверцу - не открывается: замело! «Газик» замело!
Ужас охватил Серегу. Он почувствовал себя как в гробу, в белом снежном гробу. Кто же его отыщет здесь? Кто откопает? Зачем было оставаться? Нужно было идти, идти - ведь он молодой, на нем теплый пиджак - пускай бы Кожущенко остался тут в своей вельветовой куртке!
Просунув руки сквозь брезент, он стал отгребать снег, с огромным трудом открыл дверцу; протискиваясь боком, вылез из машины.
Было утро. За буераком, где-то за снежными сугробами, угадывалось солнце. Угадывалось оно по тому разливу света, который наполнял небо над столбами снежной пыли. Этот расплескавшийся по небу свет и был посланцем солнца, был стихией более сильной, чем буран, - он все сильнее пробивал серебристую развихренную муть.
Чудилось, что ветер немного ослаб, и скоро появится солнце, и степь заиграет под его лучами белой чистотой укрощенных снегов.
Проваливаясь в сугробах, Серега побрел на грейдер и на другой стороне его, на дне балки, увидел в кустах чей-то полузанесенный, перекосившийся грузовик. Охваченный радостной надеждой встретить живую душу, бросился туда...
Но в грузовике никого не было. Люди, сорвавшись ночью под откос, видимо, оставили машину и дальше Пошли пешком, как и Кожущенко. В кузове лежали канистры, и Серега, схватив их, тут же разочарованно отбросил в сторону - бензина в них не было.
Солнце не появлялось весь день. А под вечер метель разбушевалась с еще большей силой. Наступила вторая ночь, и Серега встретил ее, угнездившись в своем «газике», не имея даже того малого тепла, которое было вчера: бензин кончился, мотор заглох, шкала потухла.
Холод и темень в кабине, коченеют ноги, мучит неизвестность. Дверца снова не открывается, стекло залепило снегом; кажется, гору снега намело над ним, навсегда придавило на дне буерака его остывший «газик».
В эту ночь Серега не спал. Потому ли, что боялся замерзнуть, или потому, что все время тревожили воображение, появляясь перед глазами, то отец, то мать, то девушка с заплаканным, таким дорогим лицом - появлялись и все спрашивали, пытались выяснить: «Почему ты так поступил, почему не пошел по той дороге, по которой пошел Кожущенко? Испугался за свою жизнь? Но ведь ты можешь лишиться ее и здесь, лишиться бесславно, а мог бы отдать с честью, побеждая стихию, спасая людей. А мы ведь думали о тебе иначе. Ты в клубе был такой видный, веселый, пользовался таким успехом у девчат. Когда ты появлялся на ферме, молодые доярки тотчас же расцветали. И отец у тебя мужественный человек, храбрый солдат - представь его на своем месте: разве он поступил бы так, как ты?»
Казалось, ночи этой не будет конца, и никогда не угомонится эта метель, и никто не проложит дорогу через степные заносы к засыпанному снегом «газику».
Однако дорогу кто-то проложил. Еще было темно вокруг, когда Серега услышал на грейдере радостный, спасительный гул трактора.
Трактор шел по грейдеру! Шел к нему, за ним! Но трактор прогромыхал, направляясь куда-то дальше. То ли он не заметил «газика», занесенного снегом, то ли он шел вовсе не для спасения его, а для выполнения какого-то другого задания. А Серега не мог подать ему голос, не мог сообщить о себе, потому что, пока он бился в своем «газике», стремясь открыть дверцу, трактор уже пророкотал, скрываясь за бугром. Это было похоже на смертный приговор. Никто его не откопает, никто, быть может, и не знает, что он тут погибает - может, и Кожущенко не дошел, и у них теперь нет пути к живым людям.
Однако спустя некоторое время снова послышался гул трактора - он, видно, вернулся, разыскивая кого-то в этом буераке. Серега бил кулаком в дверцу, кричал, но чувствовал, как голос его замирает, глохнет под снегами.
И все же его, кажется, услышали. Трактор остановился, гомон людей зазвучал в темноте, и стали отчетливо слышны такие дорогие слова:
- Трос! Давай трос!
Стальной трос дважды обрывался, пока наконец удалось сорвать с места примерзший к земле «газик» и вытащить его на грейдер.
- Привет снежному человеку!
Так пошутили они, эти незнакомые, приведенные Кожущенко люди, с интересом рассматривая в скупом предрассветном освещении найденного, выкопанного из-под снега Серегу.
Он стоял перед ними на грейдере, и бакенбарды его почти не были заметны - так он успел зарасти. («И девушка не узнает», - подумал Кожущенко.)
- А как те, наши? - это было первое, о чем он спросил Кожущенко.
- Спасены. Вертолет вызвали из Запорожья, всех подобрали...
* * *
На том же самом «газике» ночью едем мы степью. Высокий месяц бредет в тучах.
Кожущенко, положив руку на руль, спокойно рассказывает мне эту историю: Серега лежит еще в больнице с обмороженными ногами, но вскоре выпишется.
Мысли мои сейчас, однако, не о нем, не о Сереге, они о Кожущенко, мужественном, закаленном солдате, о многих таких, как он, преодолевающих в эту ночь бездорожье.
Снега уже нет - опять развезло дороги. Вижу перед собой бесконечную степь, и в ней где-то далеко-далеко - маленький огонек. Он движется. Огонек - это человек. Приветствую тебя, неизвестный огонек! Я рад, что ты есть. Пока ты есть, степь жива, ты душа этой степи, без тебя она была бы ночной бездорожной пустыней. Я жду, пока ты приблизишься. Каким увижу тебя?