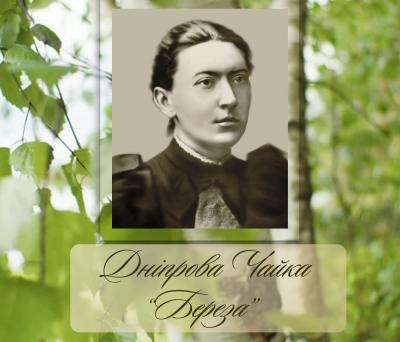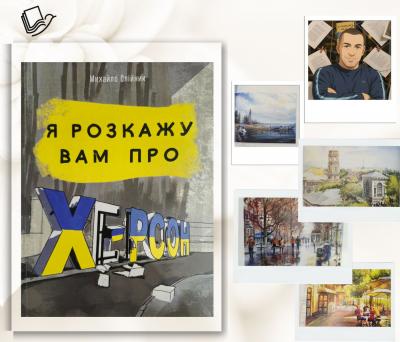На косе
О. Гончар. На косе
(рассказ, 1956)
Дальше уже ничего нет - только простор и беспредельность. Кромка суши, узкая коса, отделившись от степи, протянулась в открытое море. Пронзила горизонт, прошла сквозь небо и устремилась вдаль - нет ей конца.
Затерялась в дымках.
Коса длинная, узкая, с промоинами. Зимой в пору штормов косу эту иногда и волна переплеснет, а сейчас она сухая, в сухих пылающих песках, в колючей растительности, в щебете пернатого царства.
Множество птичьих гнезд - их никто не разоряет; океан воздуха, не отравленного ничем; гармония бытия, в которой ощущаешь себя только частицей чего-то великого - крупицей этой беспредельности, этой синей вечности.
Самый крайний край земли, заповедность, чистота.
Стоит человек на самом краю, на грани реального - кольцует птиц. Маленькая девичья рука берет из корзины один за другим легкие алюминиевые перстни, надевает на птичью ножку, ловко застегивает - как амулет, как символ союза человека и птицы.., Лети.
Окольцованных пускаешь из руки в раздолье моря и небес, в безграничную синь и голубизну, пускаешь, и кажется тебе, что не будет им смерти, этим птицам, что взлетают они с твоей ладони на вечную жизнь.
Любимая работа, душевное равновесие, добрые люди и эта бесконечная бурая коса с ветром, с солнцем, с дикими песками и крепким привкусом свободы - не о таком ли мечталось в сумраке студенческого общежития, когда после дневной беготни падала ночью на подушку, не находя и в постели спасения от раздумий, сомнений, томительных студенческих рефлексий, когда душа горела от жгучих обид неразделенной любви. Мучительно, исступленно ждала: скорее бы хоть куда-нибудь! Подальше отсюда!
После биофака, как отличница, была оставлена в столице, но продолжалось это недолго, потом все так сложилось, что опомнилась только здесь, на краю земли, где одни птицы митингуют.
Что ж, иногда мечты сбываются и так. После чада и грохота автомобилей, уличной суеты, после неистовства городской жизни с ее сногсшибательным темпом начинаешь наконец приходить в себя, начинаешь слышать тишину, упиваться раздольем и простором.
Выйдешь утром - солнце всходит, на берегу моря делаешь гимнастику, стоишь в чем на свет родилась, ветерок ласкает упругое тело...
Ничто здесь не ограничивает тебя, никто никуда не подгоняет. Иное течение времени, иные измерения, иные абсолюты. Здесь вечность. Вечность и в виде чистых, никем не заплеванных песков, ее улавливаешь и в дуновении ветра, и в спокойном парении птиц, в неторопливом шуме моря, которое не смолкает и ночью.
Каждое утро стоишь с глазу на глаз с солнцем: ты по эту сторону моря, оно по ту, делаешь свою еще студенческую физзарядку, перед тобой в густой морской синеве - кучегуры белого сверкают! То лебеди! Не выдуманные, не книжные, а настоящие, живые, которые дышат с тобою одним воздухом, гнездятся в твоих владениях и не пугаются тебя. Лебединые, снежно-белые сугробы - ведь такое можно увидеть разве что в детских снах! А для тебя они реальность, утренняя услада, здоровье и чистота мира - наверное, только здесь и осталась такая непуганая чистота!
Фрегаты утренних перламутрово-белых облаков вдоль линии горизонта величаво стоят.
Идешь на них. Одежду прихватишь на руку и идешь, как Ева этих белых безлюдных песков. Ощущаешь нежность утреннего ветерка, под ногами из-под волны уплотняется влажный песок, и тают купы белого кружева пены морской. Километры можешь идти вот так вдоль косы, не рискуя никого, кроме птиц, встретить. А твоя одежда остается лежать кучками на берегу - там туфли, там платье, - хоть и целый день так пролежит, некому ее тронуть.
Михаил Иванович далеко на берегу, в степной части заповедника скирдует сено; сам он на скирде, сено укладывает, утаптывает, а снизу ему вилами подает жена, Прасковья Федоровна, верная подруга его одиночества, которое им самим, пожалуй, одиночеством и не кажется. Правда, оба немного одичали, как и все здешние сторожа, сначала их молчаливость даже чуть отпугивала Ольгу, все думалось: не сердятся ли. Но они не сердились. Просто не привыкли и не любят лишнее говорить. А еще больше не любит Михаил Иванович писать. Должность его требует, чтобы он вел дневник, во всех подробностях записывал в казенную книгу птичьи прилеты и отлеты, фиксировал малейшие изменения местной жизни, все капризы природы, а он, глядишь, нацарапает строки две-три и ставит точку. Сделаешь ему замечание, растолкуешь, как за птицами надлежит наблюдать, как надо вести дневник, а он только прячет в усах смущенную улыбку.
- А что про них писать? Мне и так о них все известно.
И в самом деле, он знает птиц не хуже любого ученого-орнитолога, головы не поднимая скажет, что за летун над ним пролетает, какая именно птица в этот миг режет воздух своим крылом.
А сейчас дневник, видно, и вовсе забыт, так как у Михаила Ивановича сеноуборка. Бывает, что в этом деле и практиканты ему помогают или совхоз какой людей пришлет, но пока Михаил Иванович убирает сено один. Иногда вместо зарядки Ольга тоже берет вилы. Нанизывает сухое душистое сено и навильник за навильником подает туда, наверх, где Михаил Иванович молча и как-то особенно плотно утаптывает его, чтобы не затекло от ненастных осенних дождей.
Однажды утром Ольга работала на скирдовании: согнувшись, нанизывала сено, как вдруг каким-то десятым чувством ощутила над собой, совсем близко ощутила - лет! Подняла лицо, и небо на нее сверкнуло сказкой: лебеди! Целая стая - и так неимоверно близко! Михаил Иванович, стоявший на скирде, казалось, мог бы их рукой достать. А он даже головы не поднял, продолжал утаптывать сено.
Неторопливые, царственные, пролетели они прямо над Ольгой, над скирдой, над черным, загорелым Михаилом Ивановичем, потянулись на лиманы и где-то там сели спокойно за косой на воде. Ослепительная белизна их пуха, шелест воздуха, стронутого величавым взмахом крыльев, мудрая эта непуганость, доверие к человеку - все это взбудоражило душу Ольги, целый день она была под впечатлением лебединого лета. Жене Михаила Ивановича и сторожам с других пунктов она без устали рассказывала, как они летели:
- Вот так над головой! Чуть рукой не достала! Слышен был даже шорох крыльев!
И еще, смеясь, добавляла, как Михаил Иванович, топчась на скирде, и усом в их сторону не повел.
- Да нет, я все-таки их видел, - оправдывался Михаил Иванович с застенчивой улыбкой, - даже успел пересчитать. А вот вы, Ольга Васильевна, посчитать, наверное, и не догадались?
А она и впрямь не догадалась, это правда, - вся была поглощена тем ослепительным зрелищем: ведь впервые увидела так близко распростертые чуть не на полнеба живые лебединые крылья, сияние их приближалось, как солнце, - впервые так близко наблюдала она движение этих крыльев, собственными нервами ощутила волшебство и поэзию лета.
Такой это край. Лебеди живые из-за плеча у тебя вылетают, а завтра, может, появятся над домишком сторожа и розовые африканские фламинго, пропахшие тропиками, прошумят над его крольчатником да над этой прозаической скирдой.
Приехал в тот день агроном из соседнего совхоза. Верхом на пузатой кобылке, в шляпе-сомбреро, похожий на ковбоя из прерий, и опять небритый, в рыжей щетине (впечатление такое, что он никогда не бреется). На радостях Ольга и ему стала рассказывать про лебедей, а он из-под своего сомбреро только хмыкнул небрежно:
- Что за диво! Первого мая они в райцентре у нас над самыми трибунами пролетели, вся площадь им аплодировала... Вот это был номер.
Приезжий, не слезая с коня, все поглядывал на скирду, расспрашивал Михаила Ивановича, не слыхал ли тот, когда приедут сено в заповеднике распределять.
- Тут главное не прозевать, - объяснил он Ольге. - Да какое же сено! Зеленое, пахучее... Кажется, сам бы ел!
Принюхивался, мял в руке сено, шутливо задабривал Михаила Ивановича:
- Если нам эту скирду отпустите, магарыч будет!
- Кому скажут, тому и отпущу, - гудел Михаил Иванович в ответ. - Я его не распределяю.
- Так имейте же нас в виду, не то воды не дадим! - крикнул агроном, отъезжая.
Колодца на косе нет, давно уже обещают выбить артезиан, да все «только языком бьют», как говорит Михаил Иванович. А пока ему приходится ездить с бочкой по воду к совхозному артезиану.
Сегодня после обеда он тоже проделал такое путешествие, а вместе с ним побывала в совхозе и Ольга - ей нужно было на почту.
Ничем почта девушку не порадовала, и, возвращаясь домой, на косу, Ольга сидела на подводе скучная, съежившись возле бочки, в которой тяжело плескалась вода.
Где-то на полдороге им повстречался всадник. Может, настроение у Ольги было такое или сама душа ждала чего-то необычного, только когда всадник тот вымахнул из-за горизонта, вынесся, словно из времен татарщины, из казачества, и быстро стал приближаться, сердце девушки зашлось в непонятном волнении. А тот уже подлетел к ним - и весь был смуглость, мужество, обветренность! Круто осадил своего конька перед неуклюжей фурой Михаила Ивановича, блеснул белозубой улыбкой так, что девушку даже в жар бросило: оттуда он, оттуда! Из тех времен рыцарских, далеких! Профиль орлиный, и сам как орел! Только и не хватает разве что сабли на боку да шапки казацкой... Но хоть и казался он пришельцем из далекого прошлого, однако сигареты курил вполне современные: наклонившись, стал «Шипкой» Михаила Ивановича угощать. Закуривая, похвалился, что у них на Байрачном опять охотничье хозяйство организуется, в районе только что решили, и его уже егерем назначили.
- Егерь - это ж звучит?!
И глаза его, улыбчиво-прищуренные, неотступные, заставили Ольгу покраснеть.
- А вы остерегайтесь, - бросил он ей. - Все ходите над морем в костюме Евы... Думаете, безлюдно... ан нет! Солнце-то светит, далеко видать. И кто-то, может, по ту сторону лимана в камышах залег - и в бинокль. У нас красоту любят!
И опять блеск улыбки ей, вспыхнувшей, покрасневшей до ушей, и уже конь вздыбился, выгнулся и, подняв облако пыли, умчал своего всадника, как будто его и не было.
Но ведь он был! И остался с ней и теперь! Потому что когда пошла она вечером, перед сном, к морю купаться, то не сразу решилась снять с себя одежду. Как будто чувствовала на себе глаза того всадника, которые из-за лимана, из ночных камышей так пристально и жарко на нее глядели. А ночь была ясная. Лунная дорожка стлалась по морю в даль планеты. Что-то русалочье было в этой ночи, весь мир был окутан ее чарами, проникнут ее прозрачностью, околдован светлым царствованием луны над морем и степью. Так хорошо, так упоительно хорошо было, что девушка, даже ощущая на себе тот странно волнующий, обжигающий взгляд из камышей, все же стала раздеваться. Медленно, значаще, как перед брачной ночью, сняла с себя все, оставшись лишь в лунный свет одетой... Любуйся, милый! Для тебя эта краса, чистота и святость тела...
И вот он уже приблизился, как там, на дороге, когда с «Шипкой» нагнулся, и повеяло от него на девушку горячим духом коня, пота, пыли, духом дороги и ветра...
Через несколько дней приехал и тот, от кого, видимо, зависело распределение сена. Автомашине редко удается пробиться сюда через песчаные барханы, через вязкие солончаки между лиманами, а на этот раз ухитрились пробиться два «газика» и «Волга». Заинтересованных в сене было много, прибыла целая компания руководителей близлежащих и отдаленных степных хозяйств. Купались. Обедали. Опять купались. И все время не переставали спорить о сене, о скоте, которого уже поразводили столько, что и в хлевах не помещается, того и гляди придется оставлять на зимовку под открытым небом. И не осуждала их Ольга за голый практицизм этих споров, за кипение страстей вокруг столь будничных тем - не так уж трудно ей было постичь, что вопрос о сене, скоте, зимовке, кормах тут самый главный, он для этих людей сама жизнь, с ним связаны все их радости и горести, от него зависит их настроение, благополучие семьи и положение хозяина, а порой даже и сама его гражданская честь. «А может, это узко? Может, их заедает практицизм? Не докатишься ли и ты когда-нибудь до того, что тебе уже и на лебедей лень будет голову поднять? Они пролетят, а ты в это время будешь равнодушно утаптывать сено, уставившись под ноги?..» Так размышляла она, стараясь найти аргументы, оправдывающие этих людей, сложившийся уклад их жизни, ибо все-таки не ты, а они всех снабжают и всех кормят!
Тот, от кого зависело распределение сена, хотя и носил фамилию лихую и веселую - Танцюра, оказался человеком мрачным, был почему-то в унынии, скрипел протезом и глаз не поднимал, когда с каждым здоровался за руку. Был он уже седой, с серым, потухшим лицом. Лишь за обедом он слегка оживился, проявил внимание к Ольге, расспрашивая о столице, об учебе, о том, как их министерство распределяло, а когда узнал, с каким перескоком попала она сюда, даже усмехнулся со снисходительным превосходством:
- Жизнь, она научит... Научит калачи с маком есть.
- Ничего себе калач, - заметила жена Михаила Ивановича, которой Ольга представлялась не иначе как жертвой чьего-то произвола. - Мать больна, мать одинока, а дочку вон куда посылают... Был бы дядюшка в министерстве - сюда бы не направили!
- Ничего, - говорит гость, - здесь тоже наша земля, наши люди.
- Мы-то дубленые, привыкшие, а ей тут будет каково? - стояла на своем хозяйка. - Придет зима - хоть волком вой. Дожди, бураны, море до самой хаты добивает... Хозяин мой на баркас да на всю ночь за рыбой, а я дома до утра не могу глаз сомкнуть, мысли всякие: может, его уже и живого нет. Утром прибредет - обледенелый весь, одежа на нем, как железо, грохочет, с лица черный и слова не может сказать... Вот она какова - наша жизнь!
- Значит, есть где характер закалять, - говорил гость Ольге. - Надеюсь, вы же за этим прибыли? Стальной характер вырабатывать?
«Зачем я приехала - мне знать, не ваша это забота, - молча хмурилась Ольга. - А что стойкость, орлиность души каждому нужна, то это правда, это меня в людях привлекает...»
О чем бы и с кем бы Ольга ни говорила, она все время думала об одном: почему нет его здесь, между ними? Кажется, ведь должен бы быть! Ни разу не видела его после той встречи в степи, и хоть только в мыслях, в игре воображения представлялся он ей ночами, лишь в видениях лунных грезилось ей то русалочье что-то, и объятия на берегу и пылкие ласки, - все же они будто и наяву были, и он становился ей все ближе и роднее...
Танцюра как бы угадал мысли Ольги:
- Где же егерь? Почему не вижу моего друга? Послать за ним мои колеса!
И послали.
После обеда купались. Танцюра купался немного в стороне от остальных, и на влажном песке были видны глубоко впечатанные следы его тяжелого протеза.
После обеда всей гурьбой пошли вдоль косы по берегу, и так было здесь славно, привольно, вольготно, что и спорщики наконец примолкли, взоры людей смягчились, подернулись хмелем очарованности. Танцюра, светя сединой, солидно ковылял впереди, скрип его протеза и крик чайки были едва ли не единственными звуками в этом мире. Танцюре, по-видимому, нравилось быть в роли вожака, он шел повеселевший, уверенно ведя вперед всю компанию, протез его увязал, глубоко ввинчиваясь в песок.
Море выплескивает волну за волной, моет и моет косу, простершуюся низко, бурым пластом уходящую в синеву моря. Где-то там, на острие ее, должен быть маяк. Если бы не дымка, белую башню его было бы видно и отсюда - ясным утром она сверкает, белеет на горизонте. Впрочем, и сейчас все вглядывались в марево зноя: не покажется ли, случаем, где-то там, на краю неба, белая башня маяка? Люди суши, а почему-то не оставляло их такое любопытство.
Полно было диких птиц. Клекотали в воздухе, отдыхали стаями на воде, желтели беспомощными птенчиками в бурьянах, где повсюду валялась скорлупа, покинутая одежда тех, что уже повыскакивали на волю. Лебеди белеют далеко в море, намного дальше, чем утром. Их разглядывали в бинокль, прихваченный одним из молодых смотрителей.
Углубились далеко на косу, когда их догнали еще двое: шеф Ольги, ссутулившийся кандидат наук из конторы заповедника, да тот самый красавец, чубатый егерь. Ольгу он как будто и не заметил. Широко ступая в своем потертом егерском галифе, глазами все пас начальство, и в руке его было - Ольга глазам не поверила - охотничье ружье. Что это? Кто ему позволил?!
Ольгин шеф в ответ на ее осуждающий взгляд объяснил с кривой, несвойственной ему усмешкой:
- На косе, кроме полезной живности, как известно, водятся и хищники...
Егерь поспешил к старшому.
- Виктор Павлович, - окликнул он Танцюру. - А ну-ка дуплетом... Как тогда, на Байрачном!.. Дуплетиком!.. Вы же умеете, как никто! - И в голосе егеря вдруг появился такой мед, такое холопское подобострастие, что Ольге стало мучительно стыдно за него.
Ружье было передано Танцюре. Тот взял его, осмотрел с видом знатока. Потом вскинул глаза на Ольгу, но из них уже исчезла былая приветливость, они стали холодными, чужими. «Зачем здесь эта девица? - как бы спрашивал он присутствующих. - К чему нам ее осуждающий взгляд? Не интересуют меня ее достоинства, скорее раздражают. Я хочу видеть привычные, приемлемые для меня глаза вот этого парня-егеря, преданного и сметливого. Устраивает меня и угодливое поблескивание ваших очков, товарищ кандидат... И даже нейтральная веселость агронома... А вот она...»
Ничего и сказано не было, однако все почувствовали, что эта вчерашняя студентка здесь лишняя. Да и сама она это поняла. Осталась стоять на месте, не пошла с ними, когда они, перейдя вброд промоину, отправились дальше вдоль косы.
«Неужели раздастся выстрел? - мучилась Ольга, глядя им вслед. - Неужели будет спущен курок? Все зависит от этого: будет выстрел или нет?»
И все вокруг ждало. Тишина стояла какая-то неспокойная, хрупкая. И светлая беспредельность казалась хрупкой... «Все, все зависит от этого, - не давала ей покоя мысль. - Может, даже само будущее, и ценность твоих идеалов, и все эти неслыханные взрывы, ужасы, о которых теперь столько думают, пишут, говорят, - все какою-то тончайшей связью связано с его ружьем браконьера, с его курком, с тем - будет выстрел или нет?»
Компания почти скрылась в овраге за кустарником, пустынно стало на косе. Ольга медленно побрела домой. Ей почему-то все время вспоминалась фраза, брошенная Танцюрой за обедом: «Пошлите за ним мои колеса...»
То есть машину пошлите. И эти бессмысленные колеса теперь сверлили и сверлили ей мозг: «Пошлите за ним мои колеса».
И вновь она видела угодливо-заискивающую улыбочку егеря, снова чувствовала жгучий стыд за ту патоку в его голосе, которая так не шла к бравой фигуре молодца, этого степняка-красавца... Что и говорить, не рыцарем чести и достоинства явился он перед ней. Ох, совсем не таким она его себе вымечтала, не таким представляла! Будто обокрал ее в чем-то, горько, глубоко обидел...
Внезапно Ольга вздрогнула, и вся кромка горизонта как будто вздрогнула: где-то там, в глубине косы, прозвучал выстрел.
К вечеру, когда компания вернулась к дому Прасковьи Федоровны, у Танцюры большое что-то белело под мышкой.
Лебедь-шипун белел.
Тяжеленный, с белым пухом, с обвисшими метровыми крыльями, с безжизненными палками ног.
- Получайте, Прасковья Федоровна, на ужин, - с подчеркнутой веселостью, которая Ольге показалась напускной, обратился Танцюра к хозяйке.
Но та не приняла дара. Выпрямилась обиженно:
- Эта птица святая... У нас ее не едят.
Танцюра попытался было обратить все в шутку: «Ведь мы же с вами безбожники!» - и предложил лебедя жене другого сторожа, приехавшей с детьми и мужем погостить. Но и она отказалась:
- Вам же сказали - птица святая. Не едят такую у нас. - И прижала к себе детей.
Дети - две девочки и мальчик - только сопели, неприязненно поглядывая из-под материнской руки на протез Танцюры, упорно топтавшийся возле них.
Никто не захотел взять лебедя, отказались под тем или иным предлогом все. Кандидат наук даже напраслину на себя взвел, сказав, что он вегетарианец, хотя не далее как за обедом уплетал крольчатину, уклонился от подарка и агроном, пошутив, что ему участковый милиционер штраф припечет, не поверит никаким оправданиям.
Один лишь егерь увивался вокруг Танцюры, утешал:
- Домой повезете, какой гостинец будет!..
Теперь Ольга уже просто возненавидела егеря, возненавидела и ту вспышку своего слепого чувства к нему и с ужасом подумала, что этот бесхребетник мог стать избранником ее сердца.
Брошен был лебедь в машину, и ружье сверху на него было брошено небрежно, как ненужный хлам.
Вечером, перед отъездом, уже усевшись в машину, Танцюра подозвал Ольгу:
- Осуждаешь? Жаль тебе этого черногуза? - спросил с недоброй усмешкой. - План недовыполнишь или одним меньше окольцуешь?
Ольга молча кусала губы. Глаза стали маленькие, злые.
- Может, донести на меня хочешь?
- Нет. Этим не занимаюсь.
- А чего же надулась?
- Чего? Знать хочу: откуда у вас вера в свое право - бить? Право делать то, что запрещено другим? Почему вы считаете, что вам можно переступать закон?
- Все? Высказалась?
- Почему вы ведете себя так, как будто вы последний на этой земле? А ведь вы не последний. И после вас будут!
Холодным стал его взгляд; серым, как пепел, казалось в сумерках лицо.
- А может, все мы последние? Или ты такая вот нашлась... надеешься повторить цикл? Две жизни собираешься прожить?
- Вы циник. И ваши рассуждения циничны. И отвратительна мне ваша философия браконьерства!
- Погоди, не умничай... Жаль тебе этого черногузика? - Он умышленно называл черногузом лебедя, чтоб оскорбительнее было. - На! Возьми! - И поднял из полутьмы машины кипу того белого, тяжелого, прямо за шею поднял. - А то кролей поразводили, как в Австралии, норами все перерыли. Бери, бери, не сердись. Мясо у него сладкое.
Широкое скуластое лицо девушки горело от возмущения.
- Эта птица... Она и для меня святая. А где ваши святыни? Или вы уже освободили от них вашу жизнь?
- Что ты знаешь о нашей жизни? - вздохнул Танцюра. - Откуда тебе знать, как трудится наш брат... Как выматывает работа... Другие на рыбалку, в театр, а мы до ночи... Хоть и с температурой... Хоть и ноют раны... До полета не дотянув, инфаркты хватаем! - И сердито стукнул дверцей.
До поздней ночи ходила Ольга по косе. Небо было в звездах, небосклон растаял, линия горизонта исчезла... И впрямь, как на краю планеты. Дальше, за небосклоном, уже тьма и безвестность, и как бы на краю души человеческой стоишь, души, прежде столь изученной, ясной. А дальше что? На что годна? К чему устремится? Какие запасы добра и зла скрыты в ее арсеналах? И почему, оказавшись на грани зла, человек так легко и безболезненно эту грань переступает? «Абстрактно! - слышит она чье-то возражение. - Глубокая философия на мелком месте!» Но это говорите вы, те, кто не видел сегодня его ружья, его самоуверенности и его решимости (как он тем протезом землю перед нею вывертывал, ввинчивал в нее каждый свой шаг, каждый свой притоп!).
Недели через две, опять проездом, оказалось здесь все то же общество. Танцюра, непривычно добрый какой-то, чрезмерно разговорчивый, хвалился бодрым голосом перед женами сторожей и словно бы еще перед кем-то:
- Жена чуть было из дому не выгнала с той добычей. Только увидела моего черногуза - и в крик! Вот женщины, всюду одинаковы... Как будто с вами сговорилась! «Зачем в квартиру принес? Это же птица святая!» Даже соседи отказались. Еле помощнику своему навязал. Человек темный, принял за гуся...
Всем было неловко его слушать, но Танцюра как будто и не замечал общей неловкости, вновь и вновь возвращался к теме черногуза, да что подстрелил он его почти случайно, да что он, горе-охотник, раскаивается теперь, навсегда зарекается бить... Суровые, прокаленные солнцем люди слушали его, понурившись слушали; а верят они ему или нет - трудно было по их замкнутости отгадать.